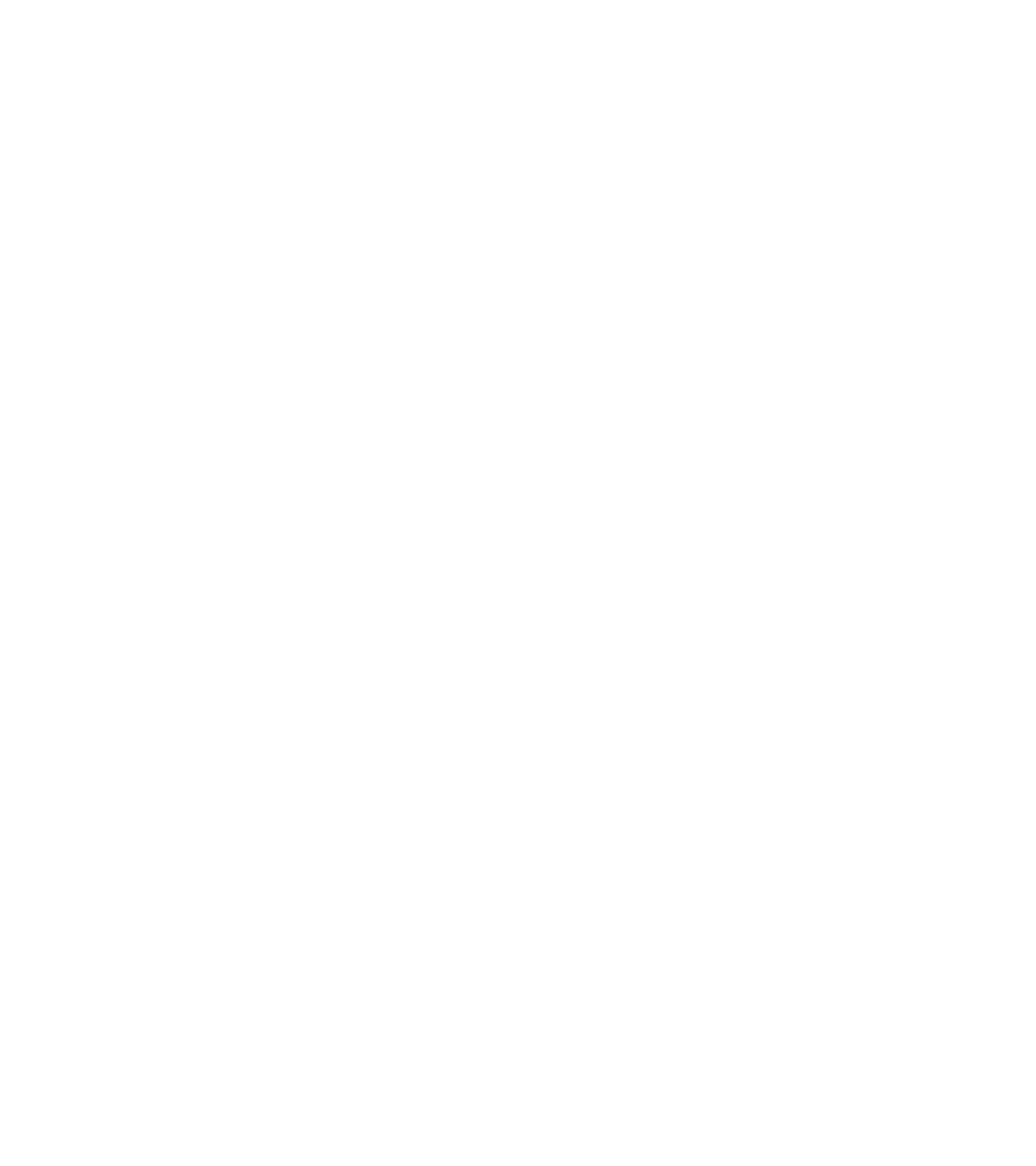Дневники. Созополь-Нида
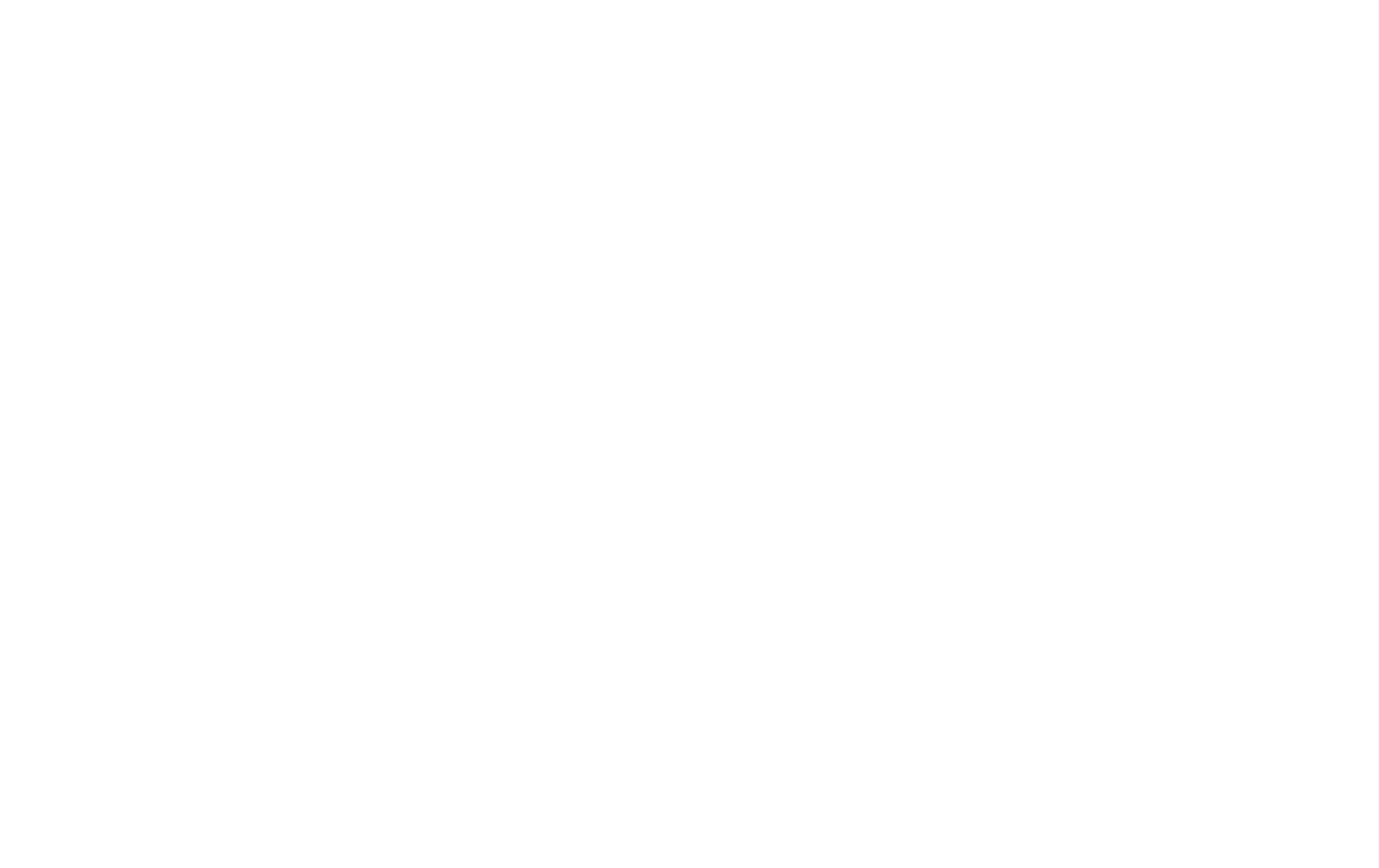
На даче в Малаховке. Лето 2012
О Созополе. Это место исключительное для живописца. Здесь много разнохарактерных элементов, которые составляют существо живописи: невысокие горы, окаймляющие море; изумительный колорит – изумрудное море и выжженная трава; кусты, обагренные осенними красками; красные крыши созопольских домов; скалы, которые заставляют вспомнить Сезанна, когда он писал Эстак. Мне кажется, это очень благодатное место для работы. Мне мешало нездоровье, когда случалось делать перерывы в работе, но я очень доволен этим местом.
Видимо, не было художника, который в полной мере достоин этого места. С удовольствием приехал бы еще раз. Замечательное разнообразие природы: проезжаешь семь километров и вдруг попадаешь в полосу дюн, которая тоже отличается по колориту. Она не похожа на Прибалтику. У меня получилось немножко больше похоже, чем на самом деле, смешалось со старыми воспоминаниями. Песок другой, не как на Куршской косе. Там был почти белый песок. Здесь врывается полоса сосен, которые привносят абсолютно другой колорит – эти сосны пушистые, с большими иглами, чуть похожие на итальянские пинии. Город со своими древними улицами тоже составляют новый элемент для живописца.
В той части Италии, которую я знаю, не-городской Италии, в чисто природной ее части разлит абсолютный покой, и этот покой, он …божественный. Здесь, в Созополе покой не является доминантой. Здесь колористически изысканные куски природы, которые возбуждают фантазию и способствуют творчеству. Как говорят художники – много того, за что можно зацепиться. Меня поразил колорит, контраст двух стихий – моря и земли. Небо здесь играет меньшую роль. А в Италии это небо и земля.
Я думаю, что Сезанну понравилось бы здесь работать. Мотивы здесь сезанновские: мощные, красивые по цвету, разнообразные.
В Италии совсем другое, там главное – покой. В Италии разлита благородная величавость. Там может стоять один домик, и вокруг него образуется аура. А здесь – город с его домами, с красными крышами. Отдельный дом здесь не имел бы значения как одухотворенное начало. Здесь стихия: море, скалы, дикие кусты. Здесь дикая природа, где есть человек, но Бога нет.
Армения абсолютно не похожа на Созополь или другие южные места. Я давно не был в Армении, почти забыл ее, но когда-то провел там в общей сложности почти два месяца. В первую поездку я мало работал, но наблюдал. А в 83-м году много работал. И понимаю, подобно Папе Иоанну-Павлу, что это божественная земля. Дело не в Ноевом ковчеге, а в том, что божественность ощутима абсолютно. Я помню, как приехал на Севан, лег на землю и просто смотрел на небо. И я ощущал всеми фибрами, что я на краю Земли и не-Земли. Больше ни в каком месте я этого не чувствовал.
Видимо, не было художника, который в полной мере достоин этого места. С удовольствием приехал бы еще раз. Замечательное разнообразие природы: проезжаешь семь километров и вдруг попадаешь в полосу дюн, которая тоже отличается по колориту. Она не похожа на Прибалтику. У меня получилось немножко больше похоже, чем на самом деле, смешалось со старыми воспоминаниями. Песок другой, не как на Куршской косе. Там был почти белый песок. Здесь врывается полоса сосен, которые привносят абсолютно другой колорит – эти сосны пушистые, с большими иглами, чуть похожие на итальянские пинии. Город со своими древними улицами тоже составляют новый элемент для живописца.
В той части Италии, которую я знаю, не-городской Италии, в чисто природной ее части разлит абсолютный покой, и этот покой, он …божественный. Здесь, в Созополе покой не является доминантой. Здесь колористически изысканные куски природы, которые возбуждают фантазию и способствуют творчеству. Как говорят художники – много того, за что можно зацепиться. Меня поразил колорит, контраст двух стихий – моря и земли. Небо здесь играет меньшую роль. А в Италии это небо и земля.
Я думаю, что Сезанну понравилось бы здесь работать. Мотивы здесь сезанновские: мощные, красивые по цвету, разнообразные.
В Италии совсем другое, там главное – покой. В Италии разлита благородная величавость. Там может стоять один домик, и вокруг него образуется аура. А здесь – город с его домами, с красными крышами. Отдельный дом здесь не имел бы значения как одухотворенное начало. Здесь стихия: море, скалы, дикие кусты. Здесь дикая природа, где есть человек, но Бога нет.
Армения абсолютно не похожа на Созополь или другие южные места. Я давно не был в Армении, почти забыл ее, но когда-то провел там в общей сложности почти два месяца. В первую поездку я мало работал, но наблюдал. А в 83-м году много работал. И понимаю, подобно Папе Иоанну-Павлу, что это божественная земля. Дело не в Ноевом ковчеге, а в том, что божественность ощутима абсолютно. Я помню, как приехал на Севан, лег на землю и просто смотрел на небо. И я ощущал всеми фибрами, что я на краю Земли и не-Земли. Больше ни в каком месте я этого не чувствовал.
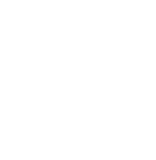
Юрий Ларин
Художник
В Италии этого не было. Там просто абсолютная гармония жизни. А вот связь, выход за пределы человеческого, — это в Армении. В Армении грандиозность пространства, горы – это не просто горки и холмы, это грандиозные массы. Пространство уходит куда-то, и ты ощущаешь совершенную бесконечность и вниз, и вверх. Если в Италии – покой, то в Армении – мироздание.
А Созополь – это человеческое, которое по своей эстетике заставляет художника творить. Это как болгарская пища, которая вкусна и разнообразна. Так и в пейзаже много вкусных элементов, из которых интересно делать цельное. Как детские кубики, из которых можно составлять самые разнообразные формы. Но конечно, здесь есть исключительные места, которые можно одухотворить: острова Святого Ивана и Святого Петра – здесь можно черти что сделать. В отличие от остальных точек в них присутствует одухотворенность.
А Созополь – это человеческое, которое по своей эстетике заставляет художника творить. Это как болгарская пища, которая вкусна и разнообразна. Так и в пейзаже много вкусных элементов, из которых интересно делать цельное. Как детские кубики, из которых можно составлять самые разнообразные формы. Но конечно, здесь есть исключительные места, которые можно одухотворить: острова Святого Ивана и Святого Петра – здесь можно черти что сделать. В отличие от остальных точек в них присутствует одухотворенность.
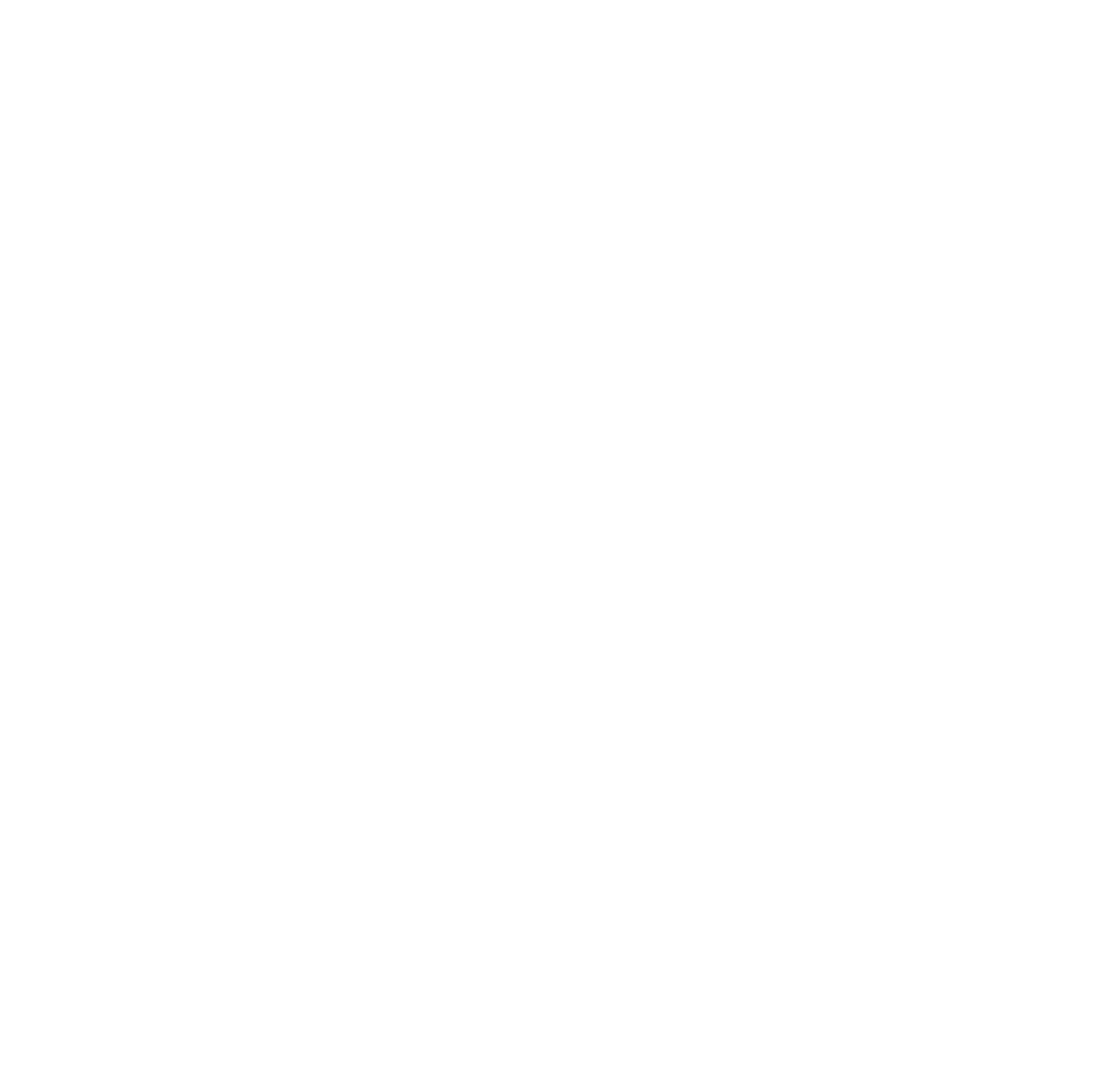
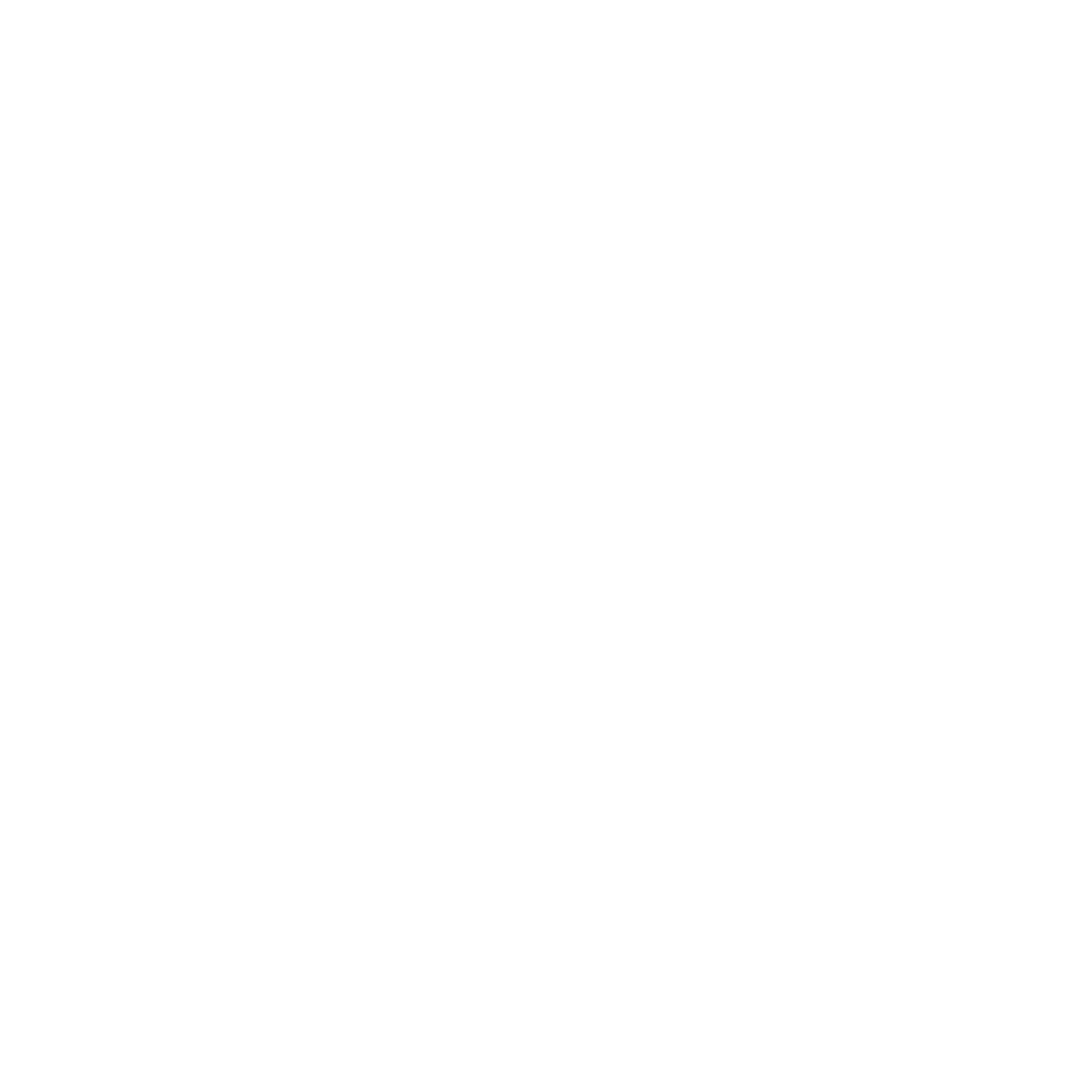
…
Насколько нужна живописная родина? Это большая и больная для меня тема. Большинство художников, которых я уважаю, которые значительны для меня, рано или поздно находили свое любимое место, а от этого зависит и свой определенный язык.
У меня жизнь так сложилась, что я не нашел главенствующей идеи, связанной с местом. Я художник пластической идеи, а не места. Хорошо это или плохо? Можно много рассуждать, но не придти ни к каким выводам. В этом году я работал в Созополе. Если бы выбор был свободным, наверное, больше всего я бы работал на юге. Но события в нашей стране развернулись так, что я был лишен этой возможности. Если бы они развернулись иначе, я бы каждый год ездил в Горячий Ключ. Там были все условия для работы, я любил природу. Своеобразные горы, не горная цепь, а предгорье Кавказа. Замечательное место, напоминавшее сезанновские места. Еженедельные поездки на море в Джубгу, за 60 километров. Я любил Юг, потому что там я видел колористическую направленность своей работы.
Но произошло многое: болезнь, смерть Инги, перемены в стране. И я не мог больше заниматься своими любимыми темами в смысле колористики. Длительная московская жизнь заставила прикоснуться к русской природе. Я много работал в Коломенском, в последнее время – на даче в Кратово, где у меня появились сюжетные вещи ( «Купание в Кратовском озере», «Дачный вечер» и т.д.). Но тоска по колориту, по более ярким цветовым ощущениям всегда давала о себе знать. Когда работал на даче Белля в Эйфеле, я тоже ощущал недостаточную цветовую мощь этого места.
Когда пришлось побывать в Италии, я как бы вздохнул полной грудью. В Созополе я почувствовал родственные отношения этого места с моими кавказскими работами.
Насколько нужна живописная родина? Это большая и больная для меня тема. Большинство художников, которых я уважаю, которые значительны для меня, рано или поздно находили свое любимое место, а от этого зависит и свой определенный язык.
У меня жизнь так сложилась, что я не нашел главенствующей идеи, связанной с местом. Я художник пластической идеи, а не места. Хорошо это или плохо? Можно много рассуждать, но не придти ни к каким выводам. В этом году я работал в Созополе. Если бы выбор был свободным, наверное, больше всего я бы работал на юге. Но события в нашей стране развернулись так, что я был лишен этой возможности. Если бы они развернулись иначе, я бы каждый год ездил в Горячий Ключ. Там были все условия для работы, я любил природу. Своеобразные горы, не горная цепь, а предгорье Кавказа. Замечательное место, напоминавшее сезанновские места. Еженедельные поездки на море в Джубгу, за 60 километров. Я любил Юг, потому что там я видел колористическую направленность своей работы.
Но произошло многое: болезнь, смерть Инги, перемены в стране. И я не мог больше заниматься своими любимыми темами в смысле колористики. Длительная московская жизнь заставила прикоснуться к русской природе. Я много работал в Коломенском, в последнее время – на даче в Кратово, где у меня появились сюжетные вещи ( «Купание в Кратовском озере», «Дачный вечер» и т.д.). Но тоска по колориту, по более ярким цветовым ощущениям всегда давала о себе знать. Когда работал на даче Белля в Эйфеле, я тоже ощущал недостаточную цветовую мощь этого места.
Когда пришлось побывать в Италии, я как бы вздохнул полной грудью. В Созополе я почувствовал родственные отношения этого места с моими кавказскими работами.
Как мне быть самим собой? Раз так случилось, что почти каждый год я бываю в разных местах, является ли это моим недостатком, или это попытка разнообразить свой художественный язык? Ведь можно и так подойти к этому вопросу. То, что случилось, — случилось – то, что я работаю в разных местах. Но кажется, мне удалось показать своеобразие каждого места. Действительно, Гагры никогда не спутаешь с Горячим Ключом. Даже Гульрипши не спутаешь с Гаграми. Северная Италия, Лацио – они отличаются не только своей пластикой, но и методом. Например, Горячий Ключ – это пастозная живопись, где собраны слитки разных красок и тонов. Италия очень тонко написана, без всякой пастозности.
Я научился улавливать характерные свойства того или иного места и находить этому месту живописный эквивалент. Хорошо это или плохо? Это означает для меня что-то . Но я всегда ищу образное решение и пластический язык, соответствующий месту. Как будущие искусствоведы будут рассматривать мои поиски, которые как будто случайны, неизвестно, это скажет моя судьба.
Я научился улавливать характерные свойства того или иного места и находить этому месту живописный эквивалент. Хорошо это или плохо? Это означает для меня что-то . Но я всегда ищу образное решение и пластический язык, соответствующий месту. Как будущие искусствоведы будут рассматривать мои поиски, которые как будто случайны, неизвестно, это скажет моя судьба.
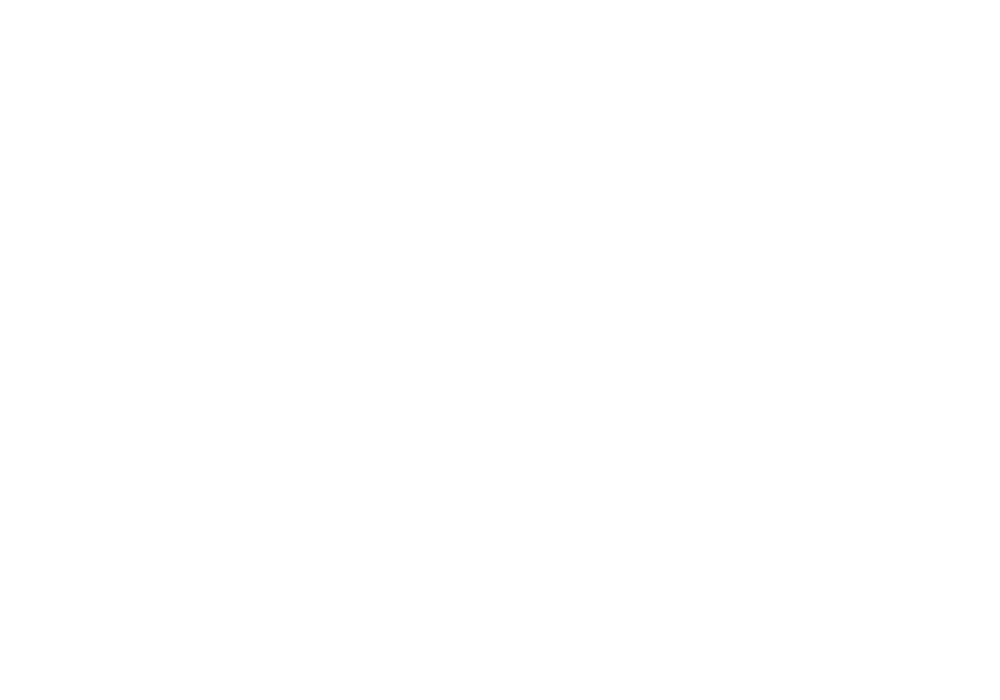
Живопись – это не география и не метеорология.
Я никогда не стремился к экзотическим местам. Друзья уговаривали меня когда-то поехать в Карелию, на что я сказал, что для меня Карелия – это слишком литературное место, беллетристическое. Там так и хочется рассказывать о маленьких озерах. По существу никакой колористической задачи в географии этого пейзажа нет. Там можно все рассказать, всякие Калевалы. А живопись – это не повествование. Я всегда склонен к местам, в которых помимо красоты, описуемой словами, есть нечто, что нельзя описать.
Знаю, что не смог бы работать на Валдае, где очень красиво. Мне это не интересно, потому что нет колористического богатства. Все держится на сюжетной основе: большое водное или лесное пространство, ягоды, грибы – все нужно обязательно рассказать.
Вот моя созопольская акварель, где на фоне моря вдруг появляются тощие деревца, образующие ритмику. Можно сказать «тощие деревца», но это не будет повествованием. Невозможно пересказать то, что увидел мой глаз.
Мог ли я в Карелии увидеть ритмику созопольских крыш? Там могут быть срубленные деревья, построенные дома, но это место не ритмическое, а место для рассказа.
Природа России наводит тоску, потому что нет колористического разнообразия. Вчера, когда мы гуляли, я увидел потрясающую выжженную траву около моря. В самой этой траве столько оттенков! Палевый, совсем бледный, потом вдруг умбристый, коричневатый. И все это рядом с глубоким зеленым моря. А там дальше остров Святого Петра, который из меловых пород – и белое вдруг врывается в это голубое, палевое. Колористическое богатство.
Все мои размышления о русской природе касаются преодоления этой тоски, своего рода психотерапия. Все равно я борюсь с этой природой и снова подхожу к концепции предельного состояния. Все раздумья о российском пейзаже касаются борьбы за музыкальность против литературности.
На Юге эта борьба тоже происходит, но происхождение ее иное, она сама является счастьем, потому что борются очень тонкие моменты, и музыка цвета исходно преобладает, она благородна. Можно сказать несколько иначе: литературная основа благородна ввиду колористического единства элементов. Например, если элементы – голубое небо и выжженная трава, это борьба внутри самих элементов, которые очень красивы и достойны себя. Борьба переходит в тонкие качества.
В русской природе нет этих тонких соотношений, т.е. приходится преодолевать почти непреодолимое.
На Юге борьба разворачивается за счет благородства, таящегося в самой природе. Когда просто видишь это: выжженная трава… сине-зеленое море… меловая гора… опаленные деревья.
Художник всегда стремится к гармонии. Русская природа для меня печальна даже в традиционной красоте осени. Ярославский пейзаж: цепочка облаков… ритмический повтор в кустах… голубое небо. Но там разлита печаль. Пока я работаю, я радуюсь. Но вот я закончил работу, понял, что она гармонична, смотрю, и меня оторопь берет от образа этой земли.
Я никогда не стремился к экзотическим местам. Друзья уговаривали меня когда-то поехать в Карелию, на что я сказал, что для меня Карелия – это слишком литературное место, беллетристическое. Там так и хочется рассказывать о маленьких озерах. По существу никакой колористической задачи в географии этого пейзажа нет. Там можно все рассказать, всякие Калевалы. А живопись – это не повествование. Я всегда склонен к местам, в которых помимо красоты, описуемой словами, есть нечто, что нельзя описать.
Знаю, что не смог бы работать на Валдае, где очень красиво. Мне это не интересно, потому что нет колористического богатства. Все держится на сюжетной основе: большое водное или лесное пространство, ягоды, грибы – все нужно обязательно рассказать.
Вот моя созопольская акварель, где на фоне моря вдруг появляются тощие деревца, образующие ритмику. Можно сказать «тощие деревца», но это не будет повествованием. Невозможно пересказать то, что увидел мой глаз.
Мог ли я в Карелии увидеть ритмику созопольских крыш? Там могут быть срубленные деревья, построенные дома, но это место не ритмическое, а место для рассказа.
Природа России наводит тоску, потому что нет колористического разнообразия. Вчера, когда мы гуляли, я увидел потрясающую выжженную траву около моря. В самой этой траве столько оттенков! Палевый, совсем бледный, потом вдруг умбристый, коричневатый. И все это рядом с глубоким зеленым моря. А там дальше остров Святого Петра, который из меловых пород – и белое вдруг врывается в это голубое, палевое. Колористическое богатство.
Все мои размышления о русской природе касаются преодоления этой тоски, своего рода психотерапия. Все равно я борюсь с этой природой и снова подхожу к концепции предельного состояния. Все раздумья о российском пейзаже касаются борьбы за музыкальность против литературности.
На Юге эта борьба тоже происходит, но происхождение ее иное, она сама является счастьем, потому что борются очень тонкие моменты, и музыка цвета исходно преобладает, она благородна. Можно сказать несколько иначе: литературная основа благородна ввиду колористического единства элементов. Например, если элементы – голубое небо и выжженная трава, это борьба внутри самих элементов, которые очень красивы и достойны себя. Борьба переходит в тонкие качества.
В русской природе нет этих тонких соотношений, т.е. приходится преодолевать почти непреодолимое.
На Юге борьба разворачивается за счет благородства, таящегося в самой природе. Когда просто видишь это: выжженная трава… сине-зеленое море… меловая гора… опаленные деревья.
Художник всегда стремится к гармонии. Русская природа для меня печальна даже в традиционной красоте осени. Ярославский пейзаж: цепочка облаков… ритмический повтор в кустах… голубое небо. Но там разлита печаль. Пока я работаю, я радуюсь. Но вот я закончил работу, понял, что она гармонична, смотрю, и меня оторопь берет от образа этой земли.
Дома у меня работы только южные, я не могу повесить русскую работу. Невозможно представить, что висит «Церковь Вознесения…», которую я закончил в день смерти мамы.
Я жутко чувствую себя на юге, — и так всегда было. Но меня все равно как магнитом туда тянет… Радость.
… Я примерно полгода живу свежими впечатлениями, а потом начинаю работать над московскими мотивами, или портретами, или натюрмортами.
Я жутко чувствую себя на юге, — и так всегда было. Но меня все равно как магнитом туда тянет… Радость.
… Я примерно полгода живу свежими впечатлениями, а потом начинаю работать над московскими мотивами, или портретами, или натюрмортами.
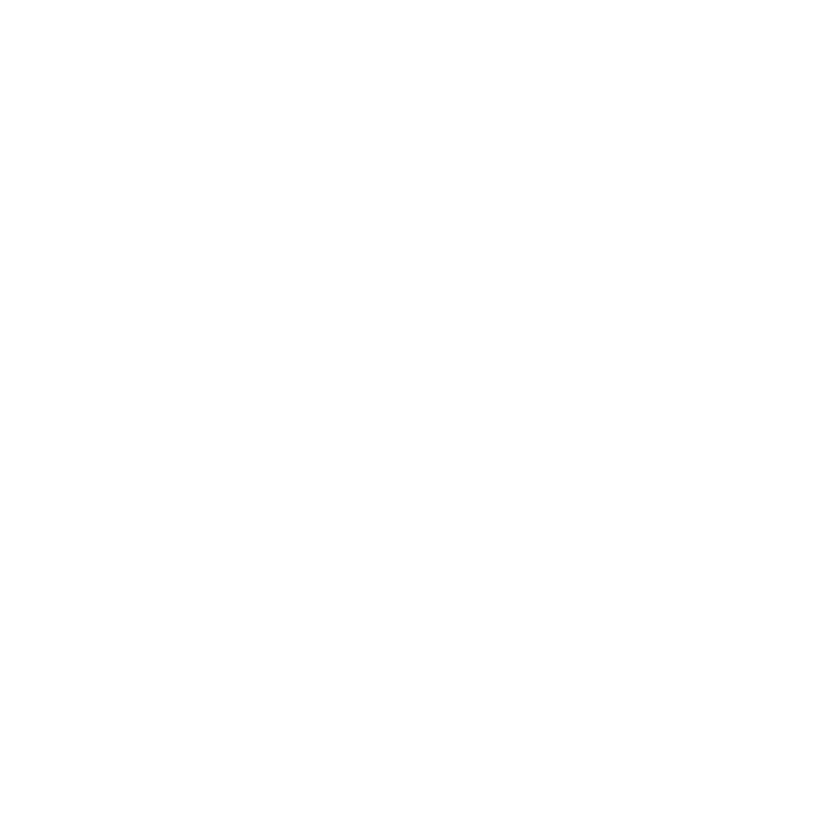
Нида. Июль 2004
У меня два способа выражения природы: графический и живописный. На юге, как правило, я работаю акварелью на обойной бумаге. Принципиальное отличие этого метода в том, что в пейзаже я добиваюсь предельного состояния в переходе изобразительного начала в цветопластическое. Обойная бумага и метод работы принципиальны для меня. Потому что очень интересна борьба цветового, музыкального начала с литературным, и я добиваюсь очень тонких цветовых отношений при работе на Юге.
Природа Прибалтики совершенно иная. И здесь в самой природе превалирует не живописный, а графический метод предъявления себя. Поэтому я давно заметил, что Прибалтика требует другой бумаги. Я начинал с немецкого картона(говорю о прежних временах). Сейчас я стал использовать отдельные элементы живописной техники, и все время ищу бумагу, которая заменила бы мне обойную. Это должна быть белая,не тонированная бумага.
Обойная бумага очень пластична и позволяет добиваться тончайших цветовых переходов. Собственно графика устраняет эту особенность и качество бумаги должно поддерживать графические задачи.
Если борьба между изобразительным и живописным началами в графических работах и происходит, она происходит у меня в голове, решение, как я буду вести работу, созревает раньше, чем кисть прикасается к листу бумаги. В каком-то смысле еще до начала я уже вижу конец работы. Может быть, я здесь более традиционен, но в последние годы я нашел какие-то моменты, которые сближают эти два способа работы. Например, иногда я нахожу определенный тип бумаги. Кроме того, раньше я не допускал применения белил в акварели. Это было принципиально для графических работ, где все должно быть очень точно. Графический подход не допускает никаких помарок. Вот этот пейзаж должен быть только такой и никакой иначе. Но сейчас введение белил и применение в ряде случаев гуаши позволяет мне избежать пластической ошибки. С другой стороны, работа делается менее уникальной.
Применение гуаши в графических работах можно объяснить отсутствием немецкого картона, а с другой стороны, каким-то моим взрослением. Я уже не боюсь ошибиться.
Работа акварелью с белилами и гуашью(смешанная техника) приближается к работе маслом. Я, конечно, привык, что акварель должна быть акварелью, но сейчас хочется разнообразия.
Я знаю, что замечательные работы гуашь с акварелью писал, например, Фальк. У меня ушло стремление сделать чистую гуашь или чистую акварель. С возрастом я стал менее уникален в акварели. Но вот в Солотче, например, удавалось делать чистую акварель. Трудно сказать, есть ли это развитие в сторону разнообразия выразительных средств, или лень, или невозможность достать необходимую бумагу.
Вот работа«Береза и сосна», — мне все равно, чем она написана, — там есть и акварель, и белила, и гуашь, но она мне очень нравится, она очень пластична. Не знаю, куда меня дальше поведет. Во всяком случае, у меня есть акварели, уникальность которых состоит в неиспользовании белил и гуаши.
В южных акварелях, написанных, в основном, на обойной бумаге, я никогда не знал, чем кончится работа. Это живописность. При каждом наложении краски или ее выбирании из бумаги происходит уточнение, взаимообогащение различных колористических моментов. Поэтому в этих работах больше неизвестности.
Пожалуй, в графических работах, в давних прибалтийских акварелях изображение должно было точно соответствовать замыслу, без единой ошибки. За исключением внешне«технических» деталей. Например, немецкая бумага позволяет вести работу полусухой кистью, которая оставляет белым зерно бумаги, поэтому происходит своеобразная игра. Кисть выявляет структуру бумаги, и это придает стилистические особенности. Может быть, благодаря работам, написанным полусухой кистью на немецкой бумаге меня иногда сравнивали с японскими мастерами.
Природа Прибалтики совершенно иная. И здесь в самой природе превалирует не живописный, а графический метод предъявления себя. Поэтому я давно заметил, что Прибалтика требует другой бумаги. Я начинал с немецкого картона(говорю о прежних временах). Сейчас я стал использовать отдельные элементы живописной техники, и все время ищу бумагу, которая заменила бы мне обойную. Это должна быть белая,не тонированная бумага.
Обойная бумага очень пластична и позволяет добиваться тончайших цветовых переходов. Собственно графика устраняет эту особенность и качество бумаги должно поддерживать графические задачи.
Если борьба между изобразительным и живописным началами в графических работах и происходит, она происходит у меня в голове, решение, как я буду вести работу, созревает раньше, чем кисть прикасается к листу бумаги. В каком-то смысле еще до начала я уже вижу конец работы. Может быть, я здесь более традиционен, но в последние годы я нашел какие-то моменты, которые сближают эти два способа работы. Например, иногда я нахожу определенный тип бумаги. Кроме того, раньше я не допускал применения белил в акварели. Это было принципиально для графических работ, где все должно быть очень точно. Графический подход не допускает никаких помарок. Вот этот пейзаж должен быть только такой и никакой иначе. Но сейчас введение белил и применение в ряде случаев гуаши позволяет мне избежать пластической ошибки. С другой стороны, работа делается менее уникальной.
Применение гуаши в графических работах можно объяснить отсутствием немецкого картона, а с другой стороны, каким-то моим взрослением. Я уже не боюсь ошибиться.
Работа акварелью с белилами и гуашью(смешанная техника) приближается к работе маслом. Я, конечно, привык, что акварель должна быть акварелью, но сейчас хочется разнообразия.
Я знаю, что замечательные работы гуашь с акварелью писал, например, Фальк. У меня ушло стремление сделать чистую гуашь или чистую акварель. С возрастом я стал менее уникален в акварели. Но вот в Солотче, например, удавалось делать чистую акварель. Трудно сказать, есть ли это развитие в сторону разнообразия выразительных средств, или лень, или невозможность достать необходимую бумагу.
Вот работа«Береза и сосна», — мне все равно, чем она написана, — там есть и акварель, и белила, и гуашь, но она мне очень нравится, она очень пластична. Не знаю, куда меня дальше поведет. Во всяком случае, у меня есть акварели, уникальность которых состоит в неиспользовании белил и гуаши.
В южных акварелях, написанных, в основном, на обойной бумаге, я никогда не знал, чем кончится работа. Это живописность. При каждом наложении краски или ее выбирании из бумаги происходит уточнение, взаимообогащение различных колористических моментов. Поэтому в этих работах больше неизвестности.
Пожалуй, в графических работах, в давних прибалтийских акварелях изображение должно было точно соответствовать замыслу, без единой ошибки. За исключением внешне«технических» деталей. Например, немецкая бумага позволяет вести работу полусухой кистью, которая оставляет белым зерно бумаги, поэтому происходит своеобразная игра. Кисть выявляет структуру бумаги, и это придает стилистические особенности. Может быть, благодаря работам, написанным полусухой кистью на немецкой бумаге меня иногда сравнивали с японскими мастерами.
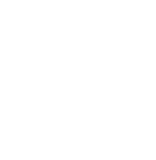
На Юге я делал другие работы и решал другие цветопластические задачи в акварели. Лишившись Юга, я, возможно, пытаюсь выстроить новый способ ведения работы на бумаге. На Юге практически каждая моя работа была удачной. Более или менее она осуществлялась в соответствии с продуманным принципом предельного состояния. Когда я снова в Прибалтике стал делать графические пейзажи, тоже создавалась своя система. Борьба за цветопластику, как я уже говорил, происходила в моей голове. Но вместе с тем, мне хотелось пробовать что-то иное. Этим новым оказалось применение гуаши и белил в акварели. Я вспомнил акварели Фалька в смешанной технике. От меня прежнего в этой технике осталось незакрашивание всего листа. Много белого, который поддерживается другими цветами. Я думаю, что на меня в этом смысле повлиял Сезанн, потому что у него часто не только в акварели, но и в масле бывали такие «пробелажи». Организация акварели диктует заполнение ее красками или оставление белого. В моей палитре белый цвет равновелик другим цветам, он не менее значим.
Работа маслом и акварелью взаимно обогащают. Я часто переношу находки, сделанные в акварели, на холст. Пропуски, незекрашивание холста – это перенесено из акварели. Незакрашенные пропуски – это часть композиции, как в музыкальном произведении паузы. Наверное, пауза значима для всех искусств.
Важно еще сохранение листа, как цельной данности, потому что нужно избежать в плоскости листа иллюзорного пространства. Давным давно я понял этот закон живописи и всегда боролся за цельность плоскости. За плоскостность изображения, которая была открыта заново художниками 20-го века.
Духовное начало в живописи возникает из борьбы цветопластического и изобразительного начал. В акварелях Юга эта борьба порождает тайну. Тайна в работе есть тогда, когда борьба завершена. Завершение дает красоту и тайну.
В графических работах нет этого слияния, нет духовного начала, нет тайны. Но в работе«Береза и сосна» мне, кажется, это удалось: мало что осталось от сосны и еще меньше от березы. И вместе с тем, работа наполнена тайной. В живописных акварелях Юга таинственность достигается, в том числе, изысканностью цвета. Здесь же таинственность осуществляется какими-то иными способами, которые переносят цветопластическую идею на осмысление сюжетного начала. То, что произошло в этой работе, доказывает, что такой способ выражения духовности, тайны, более литературный что ли, может существовать.
В маленькой акварели «Дорога к дюне» я пытался живописными средствами выразить эту идею. Она получилась красивой, но острого разговора не получилось, открытия я не сделал. В южных акварелях, как правило. Происходит открытие, но все зиждется на прочтении, донесении некой тайны. Выражение тайны может быть более или менее острым. Развитие или ликвидация этой остроты (иногда она лишняя) – это и есть борьба. Она может быть очень короткой, меньше часа, но она происходит: уничтожение одних красочных масс, возникновение новых…Редко, но бывала у меня работа с акварелями больше одного сеанса, когда происходили какие-то совершенно новые столкновения: «Песчаный откос», «Мост в Хотьково».
Работа маслом и акварелью взаимно обогащают. Я часто переношу находки, сделанные в акварели, на холст. Пропуски, незекрашивание холста – это перенесено из акварели. Незакрашенные пропуски – это часть композиции, как в музыкальном произведении паузы. Наверное, пауза значима для всех искусств.
Важно еще сохранение листа, как цельной данности, потому что нужно избежать в плоскости листа иллюзорного пространства. Давным давно я понял этот закон живописи и всегда боролся за цельность плоскости. За плоскостность изображения, которая была открыта заново художниками 20-го века.
Духовное начало в живописи возникает из борьбы цветопластического и изобразительного начал. В акварелях Юга эта борьба порождает тайну. Тайна в работе есть тогда, когда борьба завершена. Завершение дает красоту и тайну.
В графических работах нет этого слияния, нет духовного начала, нет тайны. Но в работе«Береза и сосна» мне, кажется, это удалось: мало что осталось от сосны и еще меньше от березы. И вместе с тем, работа наполнена тайной. В живописных акварелях Юга таинственность достигается, в том числе, изысканностью цвета. Здесь же таинственность осуществляется какими-то иными способами, которые переносят цветопластическую идею на осмысление сюжетного начала. То, что произошло в этой работе, доказывает, что такой способ выражения духовности, тайны, более литературный что ли, может существовать.
В маленькой акварели «Дорога к дюне» я пытался живописными средствами выразить эту идею. Она получилась красивой, но острого разговора не получилось, открытия я не сделал. В южных акварелях, как правило. Происходит открытие, но все зиждется на прочтении, донесении некой тайны. Выражение тайны может быть более или менее острым. Развитие или ликвидация этой остроты (иногда она лишняя) – это и есть борьба. Она может быть очень короткой, меньше часа, но она происходит: уничтожение одних красочных масс, возникновение новых…Редко, но бывала у меня работа с акварелями больше одного сеанса, когда происходили какие-то совершенно новые столкновения: «Песчаный откос», «Мост в Хотьково».
Нида. Июль 2005
Я думаю, в чем заключается необыкновенность этого места? Великий художник Сезанн основывался на устойчивости предмета, будь то природа, яблоко или человек.
Природа в Ниде: свет и цвет настолько изменчивы, что невозможно, как Сезанн, работать на пленере, не то, что в Эксе, где гора Святая Виктория всегда неизменна, вес ее остается постоянным, она – гора.
В Ниде освещенность Парниды и последующих дюн переменчива, поэтому нельзя создать такую целостную картину«кусочка природы». Тучи находят - меняется цвет, освещенность, даже вес – на дальнем плане дюна становится легче, чем предыдущая. Поэтому полное представление о Ниде появилось только тогда, когда мы опустились внутрь Парниды, и я увидел, как изменчива структура этого мира. Сиюминутные состояния этой ложбины,«внутренности» дюны не бывают постоянными, поэтому и очень интересно, и очень трудно понять, как живописец должен относиться к этим изменениям. Перемещения гигантских масс воздуха есть фактор, который определяет совершенно другой подход к пейзажу, нежели у Сезанна. Я сочинил для себя формулу, и она неизменна. Здесь меняются категории пространственного света, — миг, – и все меняется. Меняющиеся формы и объемы подсказывают более абстрактное видение. Свет и цвет меняются мгновенно. Это трудно осмыслить.
Но, во всяком случае, ясно: в самом городке все постоянно – деревья, дома стоят на своих местах, городок остается собою всегда. Но за пределами Ниды эти огромные пространства предполагают другую материю, материальность, потому что поразительно меняется освещенность. Вот Сезанн говорил о яблоке, которое не шевелится… яблоко. А здесь шевелится свет и цвет огромного пространства.
Музыка, ее звучание меняется постоянно. А живопись как бы не меняется. Ею можно любоваться постоянно. Но как согласовать движение световых и цветовых масс с постоянством материи, с пространством холста, которое неизменно?! Значит, и живопись должна быть иной, … без константы, все время движение. Природа хаотична, а я должен сделать некий порядок, чтобы это стало произведением искусства. К сожалению, я так и не понял эстетику Кандинского, но думаю, что эта его беспредметность не была связана с местом пребывания. Им была построена умозрительная схема, где нет верха и низа. Но это существует отвлеченно от человека, это интеллектуальная схема.
А здесь природа дает возможность увидеть. Меняется восприятие, наступает более совершенное решение, когда возникает обобщение всех этих перемещений цветовых и световых масс. Надо еще приехать. Я уже на подходе.
Я думаю, что в Ниде присутствует особая динамика движения. Посмотрю, как это будет в масле. У Кандинского беспредметность является делом его интеллекта. А в данном случае новое видение отражает не беспредметность, а новую динамику, особый предмет.
Извне Парнида величественна, но, пожалуй, мало что меняет в способе видения. Она величественна, как Святая Виктория. Но Сезанн не мог попасть«внутрь» Виктории. Там гора – и гора, юг Франции, все устойчиво. Здесь же совсем другое. Материальная суть остается: дюна есть дюна, но освещение меняет представление о ее формах. Дюна живет в тесных отношениях с небесами. Есть мистические отношения этого места Земли с Небом через освещение, которое оно несет. Многие художники, здесь работавшие, прошли мимо этого феномена.
Природа в Ниде: свет и цвет настолько изменчивы, что невозможно, как Сезанн, работать на пленере, не то, что в Эксе, где гора Святая Виктория всегда неизменна, вес ее остается постоянным, она – гора.
В Ниде освещенность Парниды и последующих дюн переменчива, поэтому нельзя создать такую целостную картину«кусочка природы». Тучи находят - меняется цвет, освещенность, даже вес – на дальнем плане дюна становится легче, чем предыдущая. Поэтому полное представление о Ниде появилось только тогда, когда мы опустились внутрь Парниды, и я увидел, как изменчива структура этого мира. Сиюминутные состояния этой ложбины,«внутренности» дюны не бывают постоянными, поэтому и очень интересно, и очень трудно понять, как живописец должен относиться к этим изменениям. Перемещения гигантских масс воздуха есть фактор, который определяет совершенно другой подход к пейзажу, нежели у Сезанна. Я сочинил для себя формулу, и она неизменна. Здесь меняются категории пространственного света, — миг, – и все меняется. Меняющиеся формы и объемы подсказывают более абстрактное видение. Свет и цвет меняются мгновенно. Это трудно осмыслить.
Но, во всяком случае, ясно: в самом городке все постоянно – деревья, дома стоят на своих местах, городок остается собою всегда. Но за пределами Ниды эти огромные пространства предполагают другую материю, материальность, потому что поразительно меняется освещенность. Вот Сезанн говорил о яблоке, которое не шевелится… яблоко. А здесь шевелится свет и цвет огромного пространства.
Музыка, ее звучание меняется постоянно. А живопись как бы не меняется. Ею можно любоваться постоянно. Но как согласовать движение световых и цветовых масс с постоянством материи, с пространством холста, которое неизменно?! Значит, и живопись должна быть иной, … без константы, все время движение. Природа хаотична, а я должен сделать некий порядок, чтобы это стало произведением искусства. К сожалению, я так и не понял эстетику Кандинского, но думаю, что эта его беспредметность не была связана с местом пребывания. Им была построена умозрительная схема, где нет верха и низа. Но это существует отвлеченно от человека, это интеллектуальная схема.
А здесь природа дает возможность увидеть. Меняется восприятие, наступает более совершенное решение, когда возникает обобщение всех этих перемещений цветовых и световых масс. Надо еще приехать. Я уже на подходе.
Я думаю, что в Ниде присутствует особая динамика движения. Посмотрю, как это будет в масле. У Кандинского беспредметность является делом его интеллекта. А в данном случае новое видение отражает не беспредметность, а новую динамику, особый предмет.
Извне Парнида величественна, но, пожалуй, мало что меняет в способе видения. Она величественна, как Святая Виктория. Но Сезанн не мог попасть«внутрь» Виктории. Там гора – и гора, юг Франции, все устойчиво. Здесь же совсем другое. Материальная суть остается: дюна есть дюна, но освещение меняет представление о ее формах. Дюна живет в тесных отношениях с небесами. Есть мистические отношения этого места Земли с Небом через освещение, которое оно несет. Многие художники, здесь работавшие, прошли мимо этого феномена.